Пушкин отцы и дети

– Что, Петр, не видать еще? – спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.
Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».
– Не видать? – повторил барин.
– Не видать, – вторично ответствовал слуга.
Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.
Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», – в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, – словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович – хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки – должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом,[1] Кандидат – лицо, сдавшее специальный «кандидатский экзамен» и защитившее специальную письменную работу по окончании университета, первая ученая степень, установленная в 1804 г. и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в Английский клуб,[2] Английский клуб – место собрания состоятельных и родовитых дворян для вечернего времяпрепровождения. Здесь развлекались, читали газеты, журналы, обменивались политическими новостями и мнениями и т.п. Обычай устраивать такого рода клубы заимствован в Англии. Первый английский клуб в России возник в 1700 году. но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец – в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичным двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос – тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться… но тут настал 48-й год.[3]« …но тут настал 48-й год ». – 1848 год – год февральской и июньской революций во Франции. Страх перед революцией вызвал со стороны Николая I крутые меры, в том числе запрет выезда за границу. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, – и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.
Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын… кандидат… Аркаша…» – беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена… «Не дождалась!» – шепнул он уныло… Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес…
– Никак, они едут-с, – доложил слуга, вынырнув из-под ворот.
Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица…
– Аркаша! Аркаша! – закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками… Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.
Источник
«Отцы и дети» — роман И.С. Тургенева написан в 1860-1861 гг.. Первая публикация состоялась в 1862 году.
Исторический контекст романа «Отцы и дети»
Иван Тургенев стал одним из первых писателей, которые в середине XIX века заметили и описали смену одного поколения российского общества другим. Написание и публикация романа пришлись на переломный для Российской империи момент: общественность разделилась на два лагеря, между которыми вспыхнула нешуточная борьба, и найти компромисс не представлялось возможным. Автор ясно видел, что время «отцов» подходило к концу, однако старшее поколение не желало сдавать свои позиции, уступать место под солнцем молодежи, признавать, что наступает новая эпоха с новыми ценностями. Писателю удалось ярко и образно изобразить смену одной идеологии на другую. Роман «Отцы и дети» проиллюстрировал процесс отживания дворянства, на смену которого пришли люди «нового времени».
 Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Этапы работы на романом
Первый замысел будущего произведения возник у Ивана Сергеевича в 1860 году, когда писатель находился в Англии. Тургенев полагал, что он напишет небольшую повесть, о романе от тогда не помышлял. Однако последующая работа над рукописью привела его к мысли, что только жанр романа может в полной мере отразить те глобальные мысли, которые автор хотел донести до читателей.
Через несколько месяцев Иван Тургенев перебрался из Англии в Париж и там составил подробный план будущего произведения, прописав весь сюжет до мельчайших деталей. К весне 1861 года первая половина романа была завершена.
Однако вскоре работа застопорилась, и писатель понял, что заграницей он не сможете завершить произведение, полностью посвященное России. В мае 1861 года он возвращается на родину и там, в течение пары месяцев заканчивает роман.
Июль Тургенев посвятил чтению рукописи своим друзьям. Те давали писателю обратную связь, на основе которой Иван Сергеевич вносил правки. На эту работу ушло еще три месяца работы.
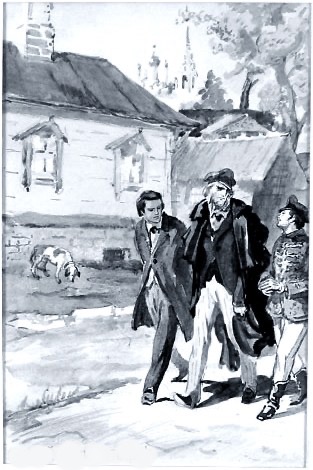 Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Публикация романа «Отцы и дети»
Первый раз «Отцы и дети» публиковались частями в журнале «Русский вестник». После чего Тургенев дописал памятное посвящение Виссариону Григорьевичу Белинскому и выпустил роман отдельным изданием в сентябре 1862 года.
Николай Добролюбов и его роль в романе
Николай Александрович Добролюбов – поэт, публицист и литературный критик – сыграл значительную роль в создании «Отцов и детей». Добролюбов был на 18 лет моложе Тургенева и, фактически, в их фигурах и произошло столкновение двух поколений, двух противоположных взглядов на жизнь.
Началось все с того, что Николай Александрович опубликовал в журнале «Современник», где тогда активно печатался и Иван Сергеевич, свою рецензию на роман Тургенева «Накануне». Критика публициста шла в разрез с замыслом писателя, и раздосадованный Тургенев поставил редактору журнала ультиматум: либо Добролюбов, либо он. Николай Некрасов, возглавлявший на тот момент издание, после долгих колебаний выбрал молодого литератора, считая, что за ним будущее.
 Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Многие современники Тургенева считали, что Н. Добролюбов и стал прототипом Евгения Базарова в «Отцах и детях». Но сам автор отрицал это предположение. Иван Сергеевич оставил подробные воспоминания о человеке, с которого он списал своего главного героя. Это был молодой врач, которого писатель встретил на железнодорожном вокзале в Англии. Писатель и доктор в ожидании поезда беседовали всю ночь, и идеи именно этого человека Иван Сергеевич вложил в уста своего книжного Евгения Базарова. Кроме того, Тургенев подробно изучил труды нигилистов и дополнил образ своего центрального героя главными идеями представителей этого направления.
Краткое содержание романа «Отцы и дети»
 Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Окончив университетское обучение домой к родителям возвращается Аркадий Кирсанов. Вместе с ним приезжает погостить у друга его товарищ по учебе Евгений Базаров. Отец Аркадия Николай Петрович столь рад видеть сына, что с распростертыми объятиями принимает и его друга. Но вскоре выясняется, что резко нигилистические взгляды Базарова вызывают раздражение у брата хозяина дома Павла Петровича Кирсанова – блестящего аристократа и приверженца традиционных устоев. Евгений и старшие Кирсановы регулярно ведут ожесточенные споры на злободневные вопросы. При этом обе стороны остаются глухи к доводам оппонентов, слыша в этих разговорах лишь себя.
В поездке Базаров знакомится с молодой вдовой Анной Одинцовой. Мужчина, отрицавший любовь как таковую, ловит себя на сердечной привязанности к этой умной и красивой женщине. Аркадий также испытывает симпатию к Анне Сергеевне, на почве влюбленности друзья отдаляются друг от друга. Но вскоре Аркадий влюбляется в сестру Анны Одинцовой Катеньку, отрекается от своих нигилистических взглядов в пользу традиционной и понятной ему жизни и делает девушке предложение любви и сердца.
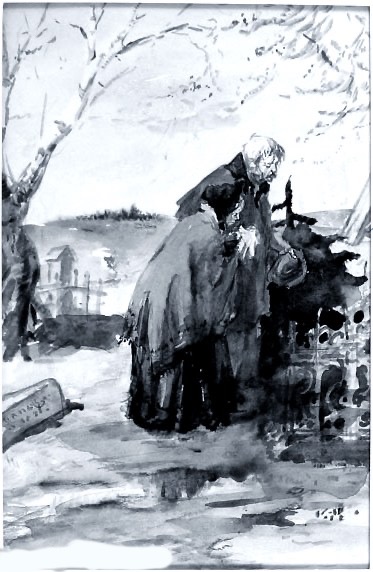 Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Базаров же, успев сразиться на дуэли с Павлом Петровичем, возвращается к родителям и берет на себя обязанности сельского лекаря. По неосторожности он заражается от больного тифом и понимает, что скоро покинет этот мир. Он отправляет к Анне Сергеевне просьбу о свидании, и та приезжает к нему. Евгений понимает, что в душе он большой романтик и ранее отрицал любовь лишь потому, что никогда до той поры не встречался с этим чувством.
После смерти Базарова и старший, и младший Кирсановы счастливо устраивают свою личную жизнь. А за могилой нигилиста ухаживают лишь его престарелые родители.
Тема романа
Иван Тургенев раскрывает в своем романе глобальную и многогранную тему отцов и детей. Причем подходит он к ней как со стороны известного конфликта между старшим и молодым поколением, так и со стороны приверженцев старых и новых взглядов на жизнь. Таким образом название «Отцы и дети» можно расшифровать не только как семейный конфликт, но и как непонимание двух поколений, столкновение различных типов мировоззрения.
 Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Иллюстрация к роману «Отцы и дети» худ. Дубинский Д.А.
Базаров представляет собой представителя нового поколения, который мыслит прогрессивно, не желает слепо подчиняться традиционным устоям просто исходя из того, что «так положено». Он все подвергает сомнению, и если какая-то идея не выдерживает проверку на прочность, он ее смело и без сожаления отвергает.
Основной посыл книги – заставить читателя задуматься, а какой тип мышления близок ему самому? Какую позицию выбирает каждый из нас: лениво и безропотно созерцать происходящее или активно бороться за новое будущее?
 Постановка МХАТ «Отцы и дети»
Постановка МХАТ «Отцы и дети»
В одном из писем Иван Сергеевич так объяснял замысел романа: «Я вывел семейство Кирсановых как представителей передового дворянства. Но даже в их лицах вы без труда прочтете вялость, лень и ограниченность. Так вот я и хочу сказать: если сливки так плохи, что же там с молоком?».
«Отцы и дети» в культуре
 Кинофильм «Отцы и дети» 2008 год. Реж. Авдотья Смирнова
Кинофильм «Отцы и дети» 2008 год. Реж. Авдотья Смирнова
На сюжет романа «Отцы и дети» было поставлено множество театральных постановок как в России, так и за рубежом. В Советском Союзе и постсоветской России вышло пять одноименных художественных фильмов. Последний был представлен публике в 2008 году. Режиссером картины выступила Авдотья Смирнова, главные роли исполнили Александр Устюгов, Александр Скотников и Наталья Рогожкина.
Поделиться новостью в Соцсетях:
Источник
Библейский сюжет. Иван Тургенев. «Отцы и дети»
I
— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.
Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: “Никак нет‑с, не видать”.
— Не видать? — повторил барин.
— Не видать, — вторично ответствовал слуга.
Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.
Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел “ферму”, — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу “матушек-командирш”, носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался “хроменьким”. Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные “выкрутасами” слова: “Пиотр Кирсаноф, генерал-майор”. В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе “Наук”. Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47‑м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться… но тут настал 48‑й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55‑м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, — и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.
Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. “Сын… кандидат… Аркаша…” — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена… “Не дождалась!” — шепнул он уныло… Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес…
— Никак они едут‑с, — доложил слуга, вынырнув из-под ворот.
Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица…
— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками… Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.
II
— Дай же отряхнуться, папаша, — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, — я тебя всего запачкаю.
— Ничего, ничего, — твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: “Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее”.
Источник
